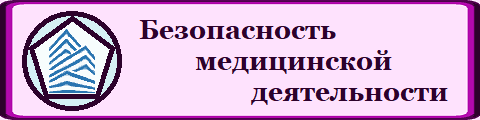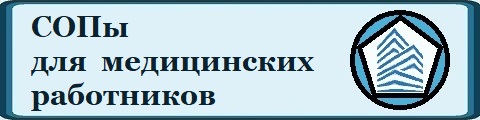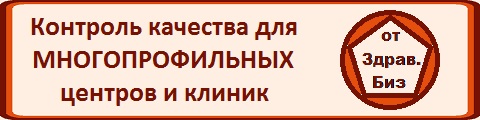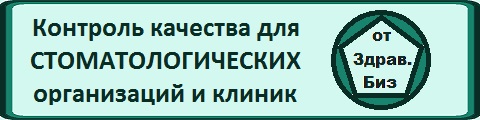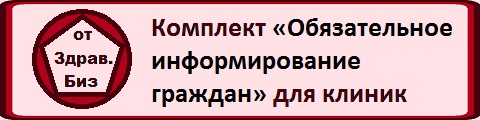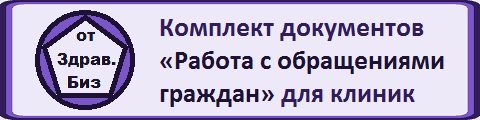Мысль не исключает комментариев.
Но тогда и комментарии не должны исключать мысль.
( © С. Азинцев «Фононы» )
Не успели мы прийти в себя от изумления, вызванного списками контрольных вопросов Росздравнадзора, как было объявлено, что Минздрав окончательно согласовал и внес в Правительство Российской Федерации проект закона о признании клинических рекомендаций обязательными к использованию на территории Российской Федерации и что есть надежда на рассмотрение законопроекта в Госдуме в весеннюю либо осеннюю сессию.
Объявление было сделано 12 сентября 2017 года на конференции «Актуальные вопросы непрерывного медицинского образования. Использование средств нормированного страхового запаса территориального ФОМС при организации дополнительного профессионального образования», проходившей в НУЗ «НКЦ ОАО "РЖД"».
Пришлось отложить в сторону пресловутые списки (см. аналитические работы «Рисковая ориентация и другие надзорные перверсии» и «Когда риск – дело не благородное») и заняться изучением новаций и рисков, которые принесет нам в недалеком будущем упомянутый законопроект, но уже в виде закона.
Суть законопроекта – внесение изменений в Федеральный закон от 21 декабря 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон) в части правового статуса клинических рекомендаций и обязательности их использования при оказании медицинской помощи. В сообщении Минздрава России о применении клинических рекомендаций говорится, что, в соответствии с международной практикой и разработками ВОЗ, клинические рекомендации (или «руководства» – представители ведомства употребляют оба термина) являются документами, которые устанавливают алгоритм ведения больного, диагностики и лечения. Выглядит так, будто мы наконец-то прекращаем поиски своего особого пути и обращаемся к нормам ВОЗ. Однако читаю документ и понимаю, что вопросов у меня больше, чем ответов. Давайте попробуем разобраться вместе.
Статья 2 Закона дополняется п. 22: «клинические рекомендации – документы, содержащие основанную на доказанном клиническом опыте информацию по вопросам профилактики, лечения и реабилитации, включая описание последовательности действий медицинского работника, схем диагностики и лечения, в зависимости от течения заболевания или состояния, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты лечения». Стандарты медицинской помощи здесь не упоминаются. Что сие означает? Ответ содержится в п. 4 ст. 10 Закона, в предлагаемой редакции которого клинические рекомендации идут следом за порядками оказания медицинской помощи, отодвигая стандарты на последнее место. К новому месту и значению стандартов мы ещё вернемся, и не раз.
Статья 37 Закона, описывавшая ранее содержание порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, теперь будет определять организацию медицинской помощи. «Порядки» сохранят свой статус, а «стандарты» предложено только учитывать.
Обратимся вновь к сообщению Минздрава России: «Клинические рекомендации не следует путать со стандартами медицинской помощи. Стандарты – это технологические карты, разработанные на основе клинических рекомендаций, представляющие собой перечень услуг, лекарств и медицинских изделий и других компонентов лечения, которые могут использоваться при конкретном заболевании, с усредненными частотой и кратностью их представления в группе больных с данным заболеванием. Стандарты не могут использоваться лечащим врачом: это документы, используемые организаторами здравоохранения для планирования и экономических расчетов…».
До недавнего времени оказание медицинской помощи было четко ориентировано на выполнение порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения). Как правило, клинические рекомендации использовались в лечении больных с заболеваниями, для которых не были установлены стандарты медицинской помощи, либо в дополнение к ним. В последнем случае, если клинические рекомендации расходились со стандартом, приоритет имели стандарты медицинской помощи, поскольку они имеют силу нормативных правовых актов, а их исполнение контролируется как при осуществлении государственного и ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, так и в системе обязательного медицинского страхования при проведении «контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации об ОМС».
Новый законопроект ставит во главу угла клинические рекомендации (руководства), оставляя стандартам, как выше уже было отмечено, роль «технологических карт».
Тем не менее, ч. 6 ст. 37 Закона по-прежнему предписывает лечащему врачу соблюдать стандарт медицинской помощи (наравне с клиническими рекомендациями) и допускать отклонение от него лишь прибегая к дополнительной процедуре: «Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи или не предусмотренных соответствующей клинической рекомендацией (одной, так указано в источнике – прим.авт.), допускаются в случае наличия медицинских показаний (…) по решению врачебной комиссии». Очевидно, предназначение процедуры заключается в обеспечении легитимности решения лечащего врача о необходимости отойти от предписанной схемы диагностики и лечения.
Противоречие между положениями законопроекта в случае его принятия внесёт путаницу в организацию лечебно-диагностического процесса и усложнит внутреннюю регламентацию медицинской деятельности. Да и не всякий врач решится выходить за рамки стандарта медицинской помощи или клинических рекомендаций, а это уже может сказаться на качестве медицинской помощи больным, клиническая картина и особенности течения заболевания у которых требуют особого подхода.
Далее. Ч. 5 ст. 37 Закона гласит:
«Стандарт медицинской помощи разрабатывается на основе клинических рекомендаций с применением специализированной информационной системы в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и включает в себя усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения:
1) медицинских услуг, включенных в номенклатуру медицинских услуг;
2) зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных препаратов (с указанием средних доз) в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения;
3) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека;
4) компонентов крови;
5) видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания;
6) иного, исходя из особенностей заболевания (состояния)».
Уточнения требований к составу стандарта медицинской помощи не принципиальны, но полностью изменяется порядок их разработки (он должен быть вновь установлен Минздравом) и главное его условие: разработка должна осуществляться «на основе клинических рекомендаций» и «с применением специализированной информационной системы». Возникает правовая коллизия: все стандарты медицинской помощи, утвержденные до вступления поправок к Закону в силу, вступают с ним в противоречие и должны быть отменены, а новые ещё не разработаны. Даже если они, по мнению Минздрава, вообще больше не нужны врачам (ни старые, ни новые), то организаторам здравоохранения с этим «подарком» всё равно нужно что-то делать. Минздрав, возможно, уповает здесь на обозначенную в проекте «специализированную информационную систему», позволяющую (предположительно) «шлёпать» стандарты медицинской помощи из клинических рекомендаций в автоматическом режиме. То есть, без должного профессионального участия, которое всегда требует времени.
Не лучше обстоят дела и с критериями оценки качества медицинской помощи:
«Особый раздел в структуре клинических рекомендаций составляют критерии качества оказания медицинской помощи при данном заболевании. Это свод обязательных требований, исполнение которых прямо и высоко достоверно (орфография сохранена – прим.авт.) влияет на исход заболевания. Критерии качества утверждаются отдельно приказами Минздрава России и являются обязательными для исполнения».
В значительном количестве клинических рекомендаций, уже вошедших в рубрикатор на сайте Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России, критерии оценки качества медицинской помощи сформулированы в соответствии с отмененными нормативными актами: одноимёнными приказами Минздрава России от 7 июля 2015 года № 422ан и от 15 июля 2016 года № 520н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи». Это не удивительно. Клинические рекомендации разрабатываются основательно и долго, а нормативная правовая база изменяется в ином темпе и не всегда предсказуемо. Это означает, что те критерии качества, которые заложены в соответствии с недействующими нормативными актами, уже требуют пересмотра, чтобы ими можно было пользоваться. А что будет с последним приказом Минздрава России от 10 мая 2017 года № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»? Ведь и он в своих формулировках опирается, в основном, на стандарты медицинской помощи? Я уже не говорю про т.н. «проверочные листы (списки контрольных вопросов)» Росздравнадзора – вот где сплошные стандарты медицинской помощи. Это какой же объем документов придется тщательно анализировать, приводить в соответствие или даже писать заново! Как в сказке: «Горшочек, вари!» – и в законодательной каше уже можно утонуть. Если бы ещё можно было попросить: «Горшочек, не вари»…
Порядки оказания медицинской помощи, по всей видимости, также ожидает пересмотр. В действующей редакции ч. 2 ст. 37 Закона 5 пунктов, перечисляющих то, что должен включать в себя порядок оказания медицинской помощи. В предлагаемой редакции исчезают «рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, её структурных подразделений», но не бесследно. Они обнаруживаются в неожиданном месте: в п. 7 ч. 2 ст. 14, в которой говорится о полномочиях «федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья». Этот пункт получил дополнение и теперь звучит так: «установление общих требований к структуре и штатному расписанию, включая рекомендуемые штатные нормативы, медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения». Прежде «рекомендуемые штатные нормативы» становятся «установленными общими требованиями». Почувствуйте разницу.
Понятно, что Федеральный закон имеет приоритет перед остальными нормативными актами. Но и требования Росздравнадзора обязательны к исполнению. Как быть? Остается ждать разъяснений в соответствии с ч. 7 ст. 37 законопроекта: «В целях единообразного применения порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи при необходимости могут издаваться соответствующие разъяснения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».
Ещё один вопрос: п.22 ст.94 законопроекта обязывает в системе персонифицированного учета указывать идентификационный номер клинической рекомендации (и тут одной, да ещё и с номером – прим.авт.) применительно к лицу, которому были оказаны медицинские услуги. В данный момент это далеко не всегда возможно, так как клинических рекомендаций в рубрикаторе пока недостаточно и они охватывают не все специальности, не говоря о нозологиях. В рубрикаторе есть вкладка «иные руководства», где размещены разнообразные методические руководства. Каков их правовой статус, можно ли ими пользоваться при отсутствии клинических рекомендаций для какой-либо нозологической формы? Неизвестно.
И как же без десерта! Цитирую полностью ч. 4 ст. 84:
«Платные медицинские услуги могут оказываться в объеме, предусмотренном клиническими рекомендациями, либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем, предусмотренный клиническими рекомендациями».
Как вам это «Поле чудес»? Я понимаю, можно превысить объем стандарта медицинской помощи (если предварительно понять, что означает его неведомый «объём»; а что есть «объём, предусмотренный клиническими рекомендациями» понять совершенно невозможно) по решению врачебной комиссии. Но не по просьбе же пациента! Иначе получается, что Закон в предлагаемой редакции предписывает врачу нарушать требования самого себя, осуществляя медицинское вмешательство, не рекомендованное (не разрешенное) к осуществлению утвержденными этим же Законом клиническими рекомендациями. Фактически, это означает, что врач будет обязан нарушать Закон по прихоти пациента и нести за это ответственность!
Автор: Елена Константиновна Елисеева, г.Рязань.
Специально для ЭкспертЗдравСервис.
От редактора. Уважаемые коллеги! Реформы, происходящие в системе здравоохранения нашей страны, требует от медицинских организаций постоянной перестройки своей деятельности. Необходимо постоянно отслеживать изменения в законодательстве и подзаконных нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере охраны здоровья. Особенно это относится к правовым аспектам деятельности, в частности, к соблюдению и выполнению порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций, стандартов медицинской помощи. В силу особенного характера медицинской деятельности, даже всеобъемлющий контроль деятельности врачей не способен полностью устранить риски, возникающие в процессе оказания медицинской помощи пациентам. Поэтому, лучшим решением для руководителя является формирование коллектива, состоящего из компетентных и ответственных специалистов, профессионалов своего дела, и его мотивация. Необходимо своевременно обеспечить врачей актуальной информацией, исчерпывающими разъяснениями сложных и неоднозначных изменений в законодательстве. Настоящая статья уважаемой Елены Константиновны Елисеевой, как и другие материалы нашего сайта, призвана помочь Вам организовать работу Вашей клиники в соответствии с требованиями законодательства и реальной жизни. Оставайтесь с нами!
Всегда ваш, Андрей Таевский.