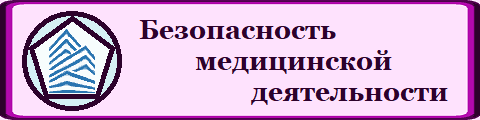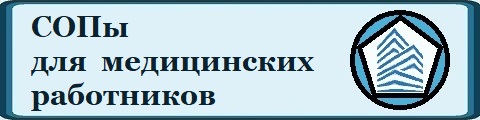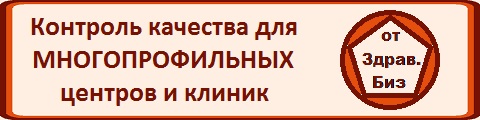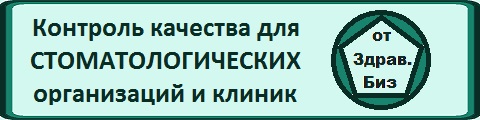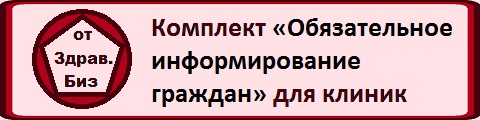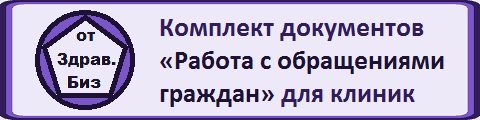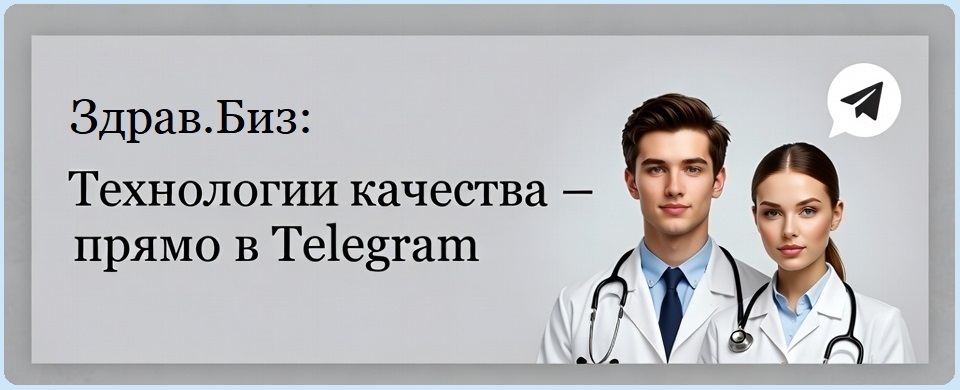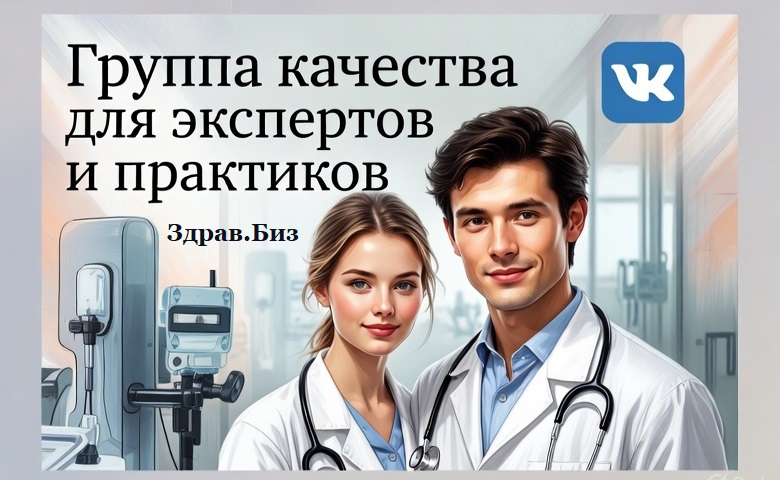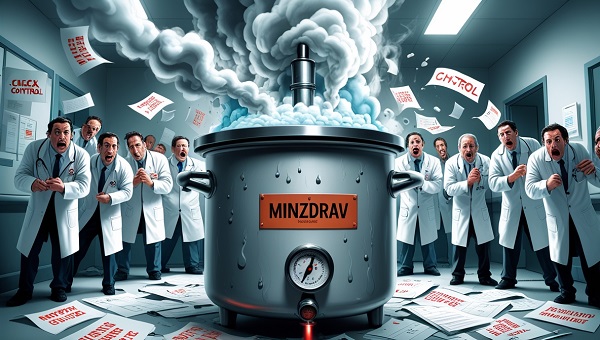Оказывать людям медицинскую помощь на основе «гайдов», «гайдлайнов» или, по-нашему, клинических рекомендаций – естественно для врача, профессионала своего дела. Так считает подавляющее большинство специалистов здравоохранения во всём мире. Включая и нашу страну, хотя мы пришли к такому пониманию относительно недавно. Правда, и не совсем к «такому», судя по нездоровой суете вокруг проблемы «обязательности» применения клинических рекомендаций, суть и страсти по которой недоступны пониманию многих зарубежных коллег.
Самое удивительное, болезненная суета затянулась на десятилетия. Какие-то странные люди настырно пытаются сделать из клинических рекомендаций «инструменты», насколько удобные для достижения их собственных целей, настолько и противоестественные. То перечни «положенного» к отпуску «потребителям медицинских услуг», то «автоматически правильные автоматические клинические рекомендации» для лечения в компьютере, то набор лекал для измерения «качества медицинской помощи» по «моделям пациента» для следствия и суда или обоснования штрафов, то «инструмент контроля за деятельностью врача», то ещё что.
Интенсивное бурление в скороварке «обязательных клинических рекомендаций» продолжается, регуляторный клапан худо-бедно работает, выпуская с оглушительным свистом в разные стороны законы, приказы, проекты, заявления с трибун, ценные мнения и предложения. А подойти страшно – напротив, хочется держаться подальше.
Вот и последние дни июля ознаменовались стремительным выходом очередного проекта «Порядка применения клинических рекомендаций»[1]. Воздух тут же густо наполнился парами однообразно оригинальных новостных сообщений и комментариев универсальных экспертов. Размахивать руками в насыщенном информационном тумане, чтобы разглядеть хоть что-то, бесполезно. Так что просто возьмём пробу газов, выйдем отсюда и закроем за собой дверь.
Что за напасть?
В пояснительной записке к проекту указано, будто разработан он в связи с изменениями в законодательстве. Действительно, закон такой вышел, и даже 3 августа успел вступить в силу[2]. Только взялся он не чудесно из ниоткуда, а под решение вполне конкретной задачи, продиктованной довольно устойчивой идеей регулятора. Об этом свидетельствуют не раз озвученные в последние годы намерения чиновников, а также предшествующие аналогичные проекты. По крайней мере, два таких проекта мы видели в январе и марте, хоть они и вбрасывались по альтернативным каналам, через региональные ассоциации по линии Национальной медицинской палаты, и широко не афишировались[3].
Иными словами, не новый проект разработан в связи с изменениями в законодательстве, а законодательство изменено по причине наличия у Минздрава определённых планов, а также настойчивого желания их реализовать. Полгода назад законная возможность для его реализации отсутствовала, теперь же она обеспечена поправками.
Однако простим авторам нового проекта это относительно безобидное лукавство. Единственное, что хотелось бы отметить – раз важность планируемого к утверждению документа столь велика, что ради него вносятся изменения в законодательство о здравоохранении, то мы вправе ожидать столь же высокий уровень его проработки. Что ж, заглянем в проект и убедимся в том, что он на самом деле идеален.
Так, что там, с проектом? Всё ли в порядке?
Идеала, увы, не получилось. Начнём с самого простого, с элементарной грамотности. Клинические рекомендации удивительно применяются в единственном числе (да-да, в штуках) (п.п.4,6,8), а под конец на их уже множественной основе разрабатывается единственный стандарт (п.10). Тезис-рекомендация оказалась вдруг мужского рода, в коем её и отсклоняли, несмотря на запрет пропаганды сами знаете чего (п.4). Оборот «в том числе» очутился, как матрёшка в матрёшке, в том числе (п.5). А «учитывать», оказывается, можно и «с учётом» (п.7).
Логика тоже подкачала. В России трёхкомпонентная система здравоохранения, и перечисление всех трёх означает, что клинические рекомендации должны применяться в любой медицинской организации страны. Но важно было перечислить – видимо, чтоб никто и не думал отвертеться (п.2). Правда, при этом упущено, что применяться они должны именно при оказании медицинской помощи, поскольку не всякая медицинская организация её населению оказывает. Да и чем только медикам не приходится заниматься, чтобы ублажить проверяющих из тысячи контор, страховщиков и прочих посредников, и для чего никакие клинические рекомендации не нужны.
Непонятно, кто и какие функции «возложил» на медицинскую организацию – допустим, частную, которые нужно «учитывать», обеспечивая «оказание» и создавая «условия» (п.3). Наверное, здесь было бы разумно исходить, прежде всего, из наличия и содержания лицензии на медицинскую деятельность, к которой уже можно опционально довесить «возложенные функции». Но «возлагать», видимо, приятнее.
Кстати, «обеспечивать оказание медицинскими работниками медицинской помощи» медицинским организациям предписано «на основе клинических рекомендаций», что ожидаемо в таком документе. А вот «создавать условия» им придётся совсем для другого и на другом основании: «обеспечивающие соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи» (п.3). Позвольте, порядок – он про что? Сдаётся мне, здесь в логике образовалась прореха, через которую авторы документа заметно вылезли за пределы регулируемой им области.
Консилиум можно созвать «в медицинской организации либо вне» её – выходит, хоть где (п.6). Да, так написано в законе[4], но то рамочная норма. Какой смысл в её дословном повторении в подзаконном нормативном акте? Достаточно было указать на необходимость консилиума в определённых обстоятельствах (хорошо, пусть с упоминанием дистанционного формата – куда ж без него) и обязанность врача его инициировать. А если очень хочется детализировать, так и нужно тогда писать конкретно, где и как его проводить, только получится уже совсем другой документ.
Безудержный креатив
Вольности авторов в отношении профессиональной терминологии поражают воображение. Уважаемые авторы! Медицинские вмешательства не «осуществляются в отношении пациента» (п.5), а ему назначаются и выполняются. Лицензия выдаётся на медицинскую деятельность, включая выполнение работ (оказание услуг) определённых видов, а не «на показанные пациенту работы (услуги)» (п.5), ибо виды работ (услуг) из приложения к лицензии показаны или не показаны пациенту быть не могут, как и сама лицензия.
Лечащий врач, конечно же, организует лечебно-диагностический процесс и делает ещё много хороших и полезных вещей – непосредственно взаимодействует с пациентом, наблюдает его, устанавливает диагноз, выполняет необходимые медицинские вмешательства с профилактическими, диагностическими, лечебными и реабилитационными целями, назначает лекарственные препараты и прочее. Только занимается он этим всем не «при применении клинической рекомендации» (п.6), а при оказании медицинской помощи пациенту, в том числе на основе клинических рекомендаций. Цель состоит в медицинской помощи, а не в «применении» документов! И выбирает врач при этом не «тактику медицинского обследования и лечения заболевания» (п.6), а тактику ведения пациента (раньше говорили – «больного»).
Далее. Согласно закону, «консилиум врачей – совещание нескольких врачей одной или нескольких специальностей, необходимое для установления состояния здоровья пациента, диагноза, определения прогноза…» и т.д. (ч.3 ст.48). Логическая связка здесь – «совещание, необходимое для…». В проекте же лёгким шевелением авторской извилины «необходимость» переключилась с вопроса о проведении консилиума на решаемые с его помощью задачи, которые тут же превратились в без него не решаемые. И вот уже лечащий врач «инициирует» консилиум (обязан) «при необходимости установления состояния здоровья пациента, диагноза, определения прогноза» и всего прочего (п.6). А поскольку проделывать всё это и составляет суть врачебной работы, то, по искривлённой логике авторов, консилиум должен врачом созываться и созываться без устали, буквально к каждому пациенту на приёме, иначе данное требование будет нарушено.
Следом у авторов проекта, очевидно лично не знакомых с содержанием врачебной работы, лечащий врач вместо диагностики и лечения пациента «выполняет комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, определении тактики медицинского обследования и лечения заболевания» (орфография сохранена). И при его, «комплекса», выполнении он «учитывает основное заболевание, наличие осложнений и сопутствующих заболеваний, определяя последовательность и объем медицинского вмешательства с учетом показаний и противопоказаний к…» – к чему бы вы думали, коллеги? А вот и не угадали! К «оказанию медицинской помощи» (п.7)!
Но не расстраивайтесь сильно, коллеги. Я и сам всегда считал, что лечащий врач оказывает медицинскую помощь, в процессе которой назначает и выполняет показанные пациенту медицинские вмешательства, всякий раз взвешивая имеющиеся к ним показания и противопоказания. И я бы тоже никогда не догадался, что вместо этого он теперь «выполняет комплекс медицинских вмешательств … с учётом показаний и противопоказаний к оказанию медицинской помощи». Всё с ног на голову.
Однако идём дальше. Хотя, погодите-ка, тут (в п.7) есть кое-что ещё: «лечащий врач … (выполняя это всё, стоя на голове) может использовать сведения из различных клинических рекомендаций». Вот то самое место, где снизошла на него обещанная благость! И ведь какая авторам проекта потребовалась смелость, чтобы разрешить врачу использовать клинические рекомендации более одной штуки на один пациентский нос!
Так-то врач и должен в клинически сложных случаях использовать не только другие клинические рекомендации, но и любые иные сведения из достоверных источников, которые помогли бы ему оказать пациенту необходимую помощь. Чисто для иллюстрации: консилиум врачей – что это, если не дополнение своего опыта и ранее усвоенных знаний знаниями и опытом коллег, на что врач идёт в интересах больного? Найти лучшее в непростой клинической ситуации решение – вот в чём состоит задача, а не размышлениях о том, сколько штук клинических рекомендаций приложить к пациенту, чтоб все были довольны и не затаскали по судам.
Новые развлечения для скучающих врачей
Впрочем, не будем грузить мозги авторов проекта слишком сложными рассуждениями – они и без того явно перегружены. Трудно, наверное, заниматься регулированием в области, в которой отсутствует опыт практической работы. Его отсутствие, конечно, лишь предполагаемое, только сомнений остаётся всё меньше. На примере положений п.4 оно особенно заметно.
Первое приведу дословно: «В случае если клиническая рекомендация содержит тезис-рекомендацию о применении лекарственного препарата для медицинского применения, специализированного продукта лечебного питания или о выполнении медицинского вмешательства с использованием (применением) медицинского изделия, обращение которых прекращено (приостановлено), такой тезис-рекомендация не применяется (не учитывается)».
Т.е., врач должен заниматься на приёме не пациентом, а выискиванием противоречий в документах? Поиском того, что, согласно актуальным клиническим рекомендациям, благополучно одобренным прекрасным Научно-практическим советом Министерства здравоохранения Российской Федерации, может применяться, но применение чего тем же Министерством где-то в других местах «прекращено» или «приостановлено»? Серьёзно?
Что хотели здесь сказать авторы проекта? Что у врача есть невероятно много лишнего времени? Или что он должен помнить наизусть все сто тыщ выведенных из обращения препаратов и медизделий, каждое утро выучивая заново их обновлённые перечни? Что пациент всегда готов подождать, пока врач перепроверяет положения клинических рекомендаций – не «прекращено» ли там внутри уже что-нибудь нужное в данной клинической ситуации? Или что врачи не могут доверять содержанию клинических рекомендаций и должны всякий раз перепроверять их положения?
В этой связи, возникают весьма неприятные вопросы. Если клинические рекомендации не являются для врача надёжным источником, к чему тогда были все эти нескончаемые громкие заявления и «общественные обсуждения»? Чего стоят масштабные изменения в законодательстве о здравоохранении[5]? И куда нас привёл восхитительный нормотворческий каскад[6]?
Неужели нельзя предусмотреть возможность оперативного внесения изменений в клинические рекомендации в случае «прекращения обращения» или его приостановки (читай – запрещения) каких-то лекарственных препаратов, медицинских изделий или технологий? Ресурсы у Минздрава есть какие угодно, вожжи регулирования в руках – ничто не мешает. Но проще скинуть проблему на врача, как будто у него своих мало.
Вторым положением этого пункта лечащего врача обязывают протаскивать подобные нужные больному, но «прекращённые или приостановленные» назначения через врачебную комиссию. Конечно, для того, чтобы адекватно помочь пациенту, врач должен, просто обязан бегом по кругу весь в мыле преодолевать барьер врачебной комиссии – очевидно, скучающей без дела, так что чем чаще, тем лучше.
Увы, я искал и не смог обнаружить в проекте признаков наличия у его авторов профессионального опыта, достаточного для регулирования целой отрасли по столь непростому и, как сейчас говорят, «чувствительному» направлению, как применение клинических рекомендаций. И ещё, судя по немыслимой компоновке терминов и фраз, я бы не исключал авторства т.н. «искусственного интеллекта». Или же естественного, умудрившегося перенять у него манеру очаровательно бессмысленно комбинировать понятия.
Серьёзный разговор
Всё сказанное выше может показаться мелкими простительными придирками на фоне той грандиозной задачи, ради решения которой Минздрав прилагает столько усилий. И если б он её действительно решил, я был бы первым в списке простивших. Однако проблему «обязательности» клинических рекомендаций рассматриваемый документ, к сожалению, не решает.
Больше скажу: я не думаю, что она разрешима на уровне подзаконного ведомственного нормативного правового акта в принципе. Дело в том, что все те люди, которые видят в клинических рекомендациях «инструмент» для достижения собственных целей, воспринимают его в качестве прилагаемой к «инструменту» инструкции, и никак иначе. За соблюдением её врачами они будут следить столь же охотно и ревностно, как и за выполнением самих клинических рекомендаций. Не говоря уже о «критериях оценки качества медицинской помощи» и всём прочем, чем обложили врачебную работу с переходом к «рынку медицинских услуг».
Контроль никогда и нигде не гарантирует качества, а за врачом вовсе не обязательно дотошно следить – важнее, чтобы он был хорошо образован, воспитан, уважаем, сыт и заинтересован в постоянном улучшении качества работы – своей и коллег. Всё это известные истины, однако в существующих общественных отношениях в сфере охраны здоровья о доверии к врачу не может быть и речи! Немыслимо, недопустимо, исключено.
С другой стороны, коль скоро сторонние силы, сконцентрированные на «обязательности» клинических рекомендаций, существуют, деятельны и влиятельны, специалистам здравоохранения приходится искать хоть какие-то способы ограничить их неуёмную тягу к вмешательству в клинические вопросы. Один из найденных способов – зафиксировать в законе, что применение клинических рекомендаций при оказании медицинской помощи регулируется ведомственным подзаконным актом, а в последнем отдать решение клинических задач на откуп клиницистам.
Принципиально и потенциально – решение неплохое. Но нужно его ещё качественно реализовать. А это значит, среди прочего, выпустить скрупулёзно проработанный порядок. И тут я, к своему глубокому разочарованию, обнаружил полный провал.
Отмеченные выше несуразности проекта исправить несложно. И я надеюсь, что в Минздраве, всё же, найдутся люди, способные составить профессионально безупречный текст.
Однако я не вижу в проекте главного – уверенного решения самой проблемы «обязательности» клинических рекомендаций, ради чего всё и затевалось. Авторы будто болтаются между доверием и подозрительностью, и транслируют свои сомнения в тексте проекта.
То у них лечащий врач «самостоятельно выбирает тактику», то он обязан «инициировать» врачебный консилиум «при необходимости установления состояния здоровья пациента» и прочего – причём, вне зависимости от того, возникли ли у него при этом какие-либо трудности. То он при наличии клинической потребности «может использовать сведения из различных клинических рекомендаций», то он должен протаскивать через врачебную комиссию назначения, не предусмотренные «соответствующей клинической рекомендацией» – и это «при наличии медицинских показаний». И т.д.
Примечательно, что все эти мотания от безусловной веры в способность врача к самостоятельному решению клинических задач к мелочному за ним контролю буквально соседствуют в тексте. Самое печальное, что в большинстве случаев моменты усиления внешнего контроля врачебной работы никак не связаны с реальными затруднениями в клинической практике. Врачу действительно иногда следует обращаться к коллегам за помощью, чтобы адекватно помочь пациенту. Однако гораздо чаще ему приходится задействовать коллективный формат принятия решений на придуманных чиновниками формальных основаниях[7].
Резюме
Проблема «обязательности» клинических рекомендаций является обратной стороной проблемы тотального глубокого недоверия к врачу, и отдельно от неё решена быть не может. Ни в законе, ни, тем более, в подзаконном нормативном правовом акте. А на радикальное решение пока не хватает воли. Приходится прятать её отсутствие за невнятными и часто противоречивыми нагромождениями слов, которые мы находим повсеместно. К сожалению, рассмотренный проект не стал исключением.
Использованные материалы:
- Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении порядка применения клинических рекомендаций» ID: 01/02/07-25/00158780.
- Федеральный закон от 23 июля 2025 года № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и статью 5 Федерального закона «О биологической безопасности в Российской Федерации».
- Проекты приказов Минздрава России:
а) «Об утверждении порядка применений клинических рекомендаций», версия, размещённая 16 января 2025 года на сайте Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»;
б) «Об утверждении порядка применений клинических рекомендаций», версия, размещённая 19 марта 2025 года на сайте Союза медицинских работников Чувашской Республики. - Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам клинических рекомендаций».
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 103н «Об утверждении порядка и сроков разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, типовой формы клинических рекомендаций и требований к их структуре, составу и научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации информации».
- Таевский А.Б. «Новый функционал врачебной комиссии медицинской организации в приказе Минздрава № 180н. Как во всём разобраться и не сломать себе голову». – Здрав.Биз, 343.
Для цитирования:
Таевский А.Б. Полуобязательное недоприменение клинических рекомендаций в новом проекте от Минздрава. – ЗдравЭкспертРесурс, 209. https://www.zdrav.org/index.php/trebovaniya-recomendacii/209-analiz-proekta-poryadka-primeneniya-klinicheskih-rekomendacij.
Всегда ваш, Андрей Таевский.